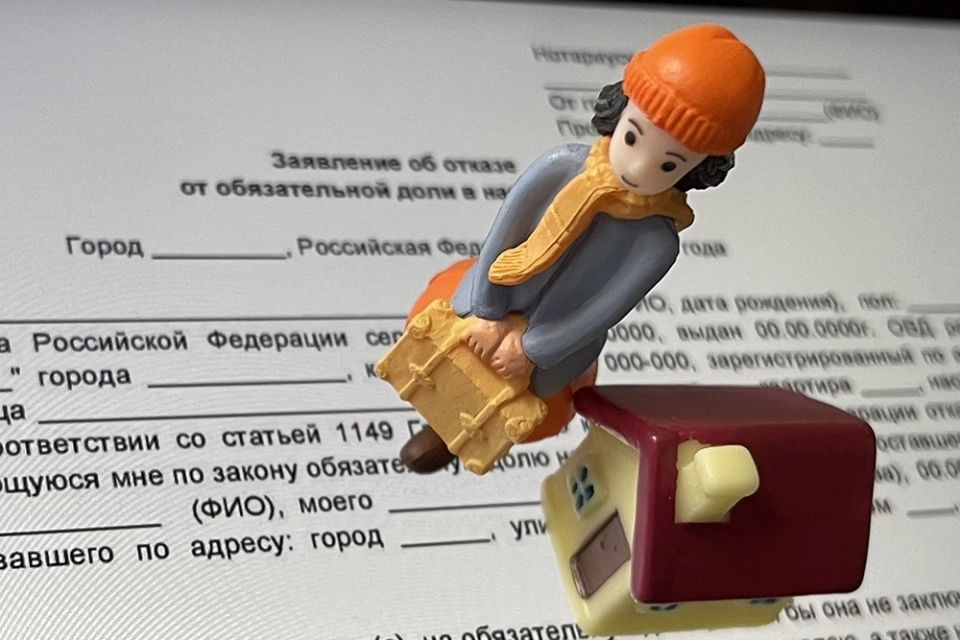Недавно произошло резонирующее дело в Верховном суде, в котором женщина требовала компенсацию за продажу совместного имущества — квартиры, осуществлённой её супругом без её согласия. Ситуация выглядела многообещающе, и подавляющее большинство людей, возможно, сочло бы её выигрышной. Однако, несмотря на явные порвания закона, решение суда стало шокирующим для истца.
Суть дела: молчаливая агрессия или согласие?
Разберёмся в ситуации подробнее. В 2014 году пара приобрела жильё, и, как это часто бывает, квартира стала общей собственностью. Однако в 2015 году, всё ещё находясь в законном браке, муж принял решение продать квартиру без получения нотариально заверенного согласия жены. На протяжении следующих семи лет, несмотря на очевидность сделки, женщина не предпринимала никаких действий для её оспаривания.
Только после развода женщина решила подать иск на экс-супруга, требуя компенсацию в размере 2,5 миллионов рублей — равную половине стоимости проданного жилья. Сначала суды первой и апелляционной инстанций встали на её сторону, однако Верховный суд отменил эти решения, ставя под сомнение действия самой истца.
Почему Верховный суд отказал в иске?
Несмотря на грубое нарушение со стороны мужа, судьи отметили несколько ключевых моментов:
- Бремя доказывания — согласно законам РФ, ответственность за доказательство нарушения лежит на той стороне, которая утверждает, что её права были нарушены. В данном случае это была жена, которой не удалось предоставить убедительные доказательства.
- Молчание как согласие — у суда накапливались вопросы к женщине. Спустя 7 лет после продажи у неё не было активных действий, что было расценено как молчаливое согласие с происходящим. Не предъявив иска в течение установленного срока, она фактически допустила ситуацию.
- Причинение вреда — отсутствие согласия не позволяет автоматически говорить о вреде, причинённом семье. Суд указал на отсутствие доказательств, показывающих, что полученные от продажи средства были потрачены не в интересах семьи или использованы в личных целях.
Таким образом, несмотря на первоначальные надежды, суд подтвердил, что формальные нарушения не всегда гарантируют успех в спорах о совместной собственности. Это дело послужило важным напоминанием о необходимости защиты своих прав на ранних стадиях изменения семейных отношений.